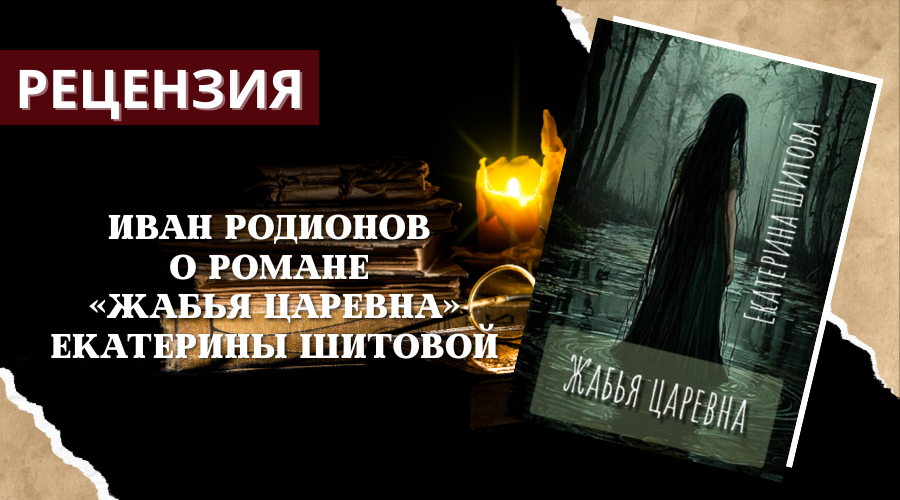
Из предложенных для рассмотрения работ достойными самых высоких оценок мне показались 3-4 текста. Работа со словом, с композицией, некая творческая идея — всё в них на уровне. Однако нужно было выбирать, и после продолжительных раздумий я остановил свой выбор на самом небольшом по объему произведении из числа моих «финалистов» — повести-сказке Екатерины Шитовой «Жабья царевна». И критерием здесь стал фактор новизны и небанальности взгляда — подчеркну! — в современной, нынешней литературной ситуации.
Объясню. «Жабья царевна» — литературная сказка на русском фольклоре. Тёмное фольклорное, мифологическое сейчас в целом переживает некий книжный бум, но именно поднадоевшим мейнстримом можно назвать:
1. Переосмысление легенд иных народов России и ближнего Зарубежья, и чем менее известны широкому кругу читателей эти легенды, тем лучше (нет). То есть эдакая литературная регионализация через сказочно-мифологическую культуру. Несколько лет назад такой подход был очень свежим, сейчас же порой он похож на конъюнктуру.
2. Вплетение в русский фольклорный сюжет социального комментария, приправленного хтонически-артхаусным магическим реализмом. Леший пьёт, кикимора живёт в панельке и так далее. Такое поначалу было свежим и прорывным, но тоже уже приелось.
3. Истории по формально-языковым признакам околосказочные (предельно стилизованные под старину речь героев и даже рассказчика, инверсии, имена-названия; присутствие в тексте потусторонних сил), но структурно сделанные скорее по современным модернистским, а то и постмодернистским образцам.
4. Попаданчество, юмор а-ля фильмы про Иванов-царевичей и т.д.
Возможно, Шитова и использовала для написания своей повести различные фольклорные образцы, не знаю. Важно другое. С одной стороны, ей удалось создать самостоятельную, авторскую литературную сказку, а с другой — никакой подмены нет, структурно это именно сказка. Попробую показать, как она выстроена по Проппу, не прибегая к излишним спойлерам.
1. Итак, уже во время небольшой доэкспозиции, когда мы еще не понимаем, что это за девушка с ребёнком, выбивается первый пункт схемы Проппа — один из членов семьи отлучается из дома. О том, что это за член семьи, мы узнаем позже.
2. Дальше читателю достаточно подробно рассказывается история грехопадения Иринушки — выявляется табу и происходит его нарушение.
3. Антагонист (кто он — секрет) знает о том, что у Иринушки есть дочь по имени Василиса, и выманивает дочь к себе. Та возвращается домой совсем другим человеком, в сумрачном состоянии духа.
4. Иринушке не хватает знаний, что делать, и она обращается за советом к старухе, которая слывёт ведьмой. Зов же тем временем усиливается.
5. Иринушка не рассказывает старухе всю правду, уходит от ответа.
6. Иринушка получает зелье для дочери. Появляется котёнок. Средства оказываются неволшебными, ложными — нужно отправляться в путь.
7. Героиня идёт почти по кровавым следам (к могиле). Происходит сражение (полусимволическое, полуреальное), появляется настоящий волшебный предмет (жабья кожа).
8. Героиня спасается. Ребёнок спасается. Все возвращается на круги своя. Но есть одно но…
Сюжеты, архетипы — все на месте. Причём они искусно переплетаются, нет ощущения, что текст делался по учебнику, схематизмом и не пахнет. И самое главное: вышерасписанная пропповская схема — это план только первой половины повести. А есть ещё и вторая: никакого хэппи-энда не случилось, фигуры возвращаются на шахматную доску, некоторые из них меняются местами и функциями, появляются новые. И маховик испытаний раскручивается по новой. При этом их уровень повышается, они становятся более жуткими и страшными, а отдельные пункты сказочной схемы выворачиваются наизнанку, деконструируются: где-то тут мрачная сказка превращается в почти полноценный хоррор с элементами мрачноватого садомазохистского эротизма.
В этом-то и проявляется мастерство автора: на небольшом объёме он демонстрирует, что знает правила, что умеет играть и по ним, и вопреки им. То есть соблюдает баланс — не уходя ни в схематичность, ни во вдохновенную литературную махновщину. Сильные прозаические тексты создаются именно так.
При этом текст захватывает, тревожит, пугает и заставляет сопереживать героям и без раскладок на всевозможных Проппов-Кэмпбеллов. Просто как история. Что, конечно, тоже очень важно: некоторые авторы о читателе иногда будто и не думают. Автор серьезен и сосредоточен на своем деле, он не подмигивает нам, как бы намекая, что все это лишь текст и все понарошку. В по-настоящему сказочную историю можно поверить лишь только так — когда рассказчик не манерничает и не ёрничает, когда история цельна и стилистически, и внутренне.
Наконец, отдельно стоит отметить язык автора, предельно адекватный избранному жанру. Нет ни неуместной современности, ни «исконно-посконной» квазиславянской лексики. Не возникает ни впечатления стилизации, ни диссонансов. Чистая русская речь.
Разумеется, все вышеперечисленное не означает, что «Жабья царевна» — какой-то идеальный текст, эталон жанра. Нет, недостатки в нем тоже наличествуют. Это и местами излишняя торопливость, уход в чистый сюжет: во-первых, так теряются детали и контекст, а во-вторых, от такой постоянной гонки читатель может и устать. Во-вторых, эпилог: он как будто слишком подслащивает горькую пилюлю, слишком утешает читателя — возможно, можно было и вовсе обойтись без него. Наконец, кой-где виден и эмоциональный перехлест, уход в жестокую сентиментальность. Но в любом случае «Жабья царевна» — повесть, достойная внимания читателя и выделяющаяся на фоне текстов, близких ей по тематике.
ПОДРОБНЕЕ О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУСА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.




